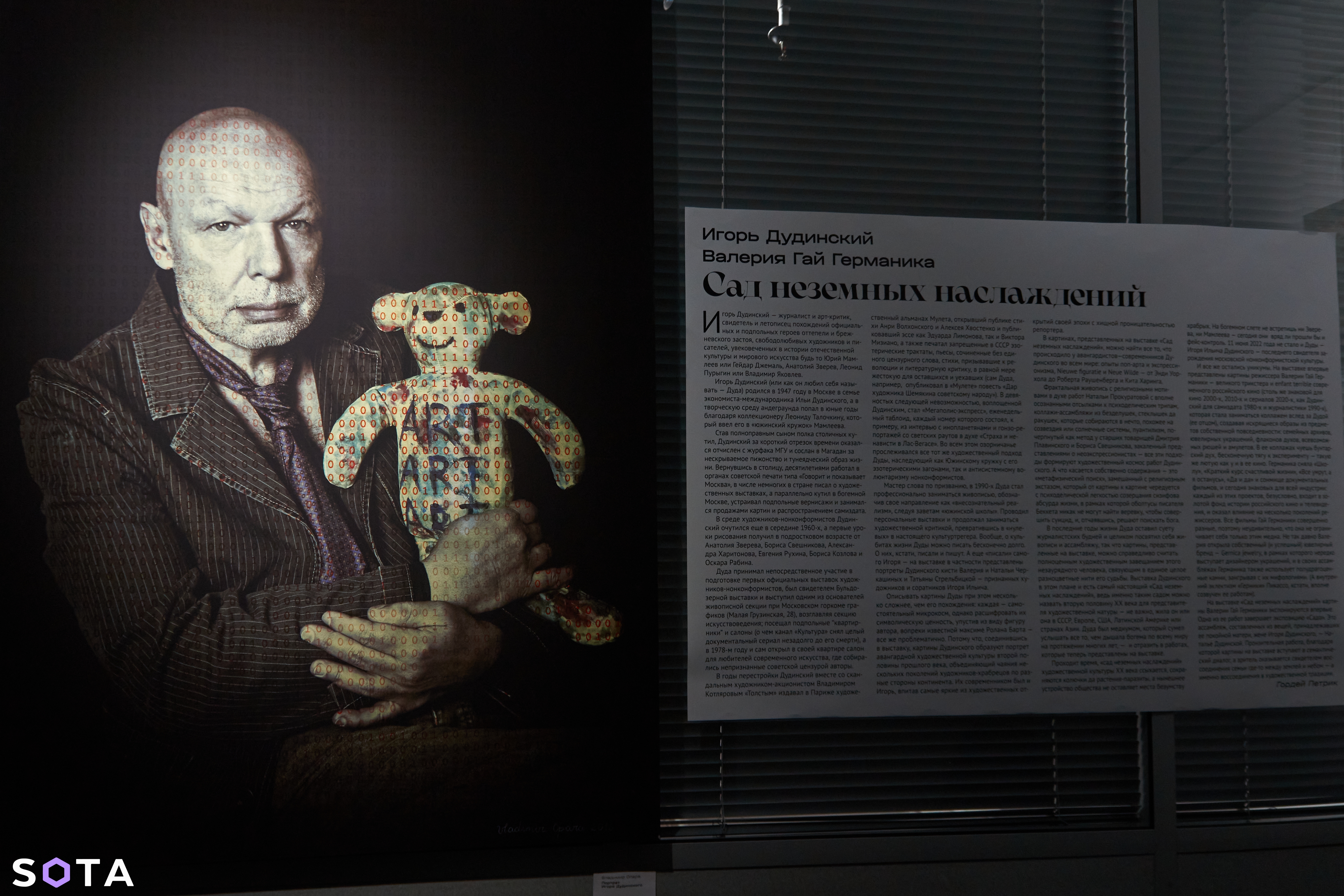«Президента РФ Владимира Путина растрогали фрагменты нового фильма о войне "В списках не значился". Фрагменты фильма Путину показали во время посещения Музея Победы на Поклонной горе, где проходил просветительский марафон "Знание. Первые". Во время финальной сцены кинопоказа видно, как Путин внимательно смотрит на экран и у него на глазах проступают слезы», – писал ТАСС 11 мая.

«В списках не значился» снят в тесном контакте с российской властью. На первом плане – одиозный Владимир Машков, в продюсерах фильма Александр Жаров (гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» и экс-руководитель Роскомнадзора), Алексей Земский (гендиректор НТВ), Тимур Вайнштейн (генпродюсер НТВ), Тина Канделаки (замгендиректора «Газпром-Медиа» и директор ТНТ) и другие. Денег на главный фильм на 80-летие Победы, разумеется, не пожалели – бюджет составил не менее 1 миллиарда рублей.
«В списках не значился» для культурного обозревателя независимого СМИ становится неприятной темой. Рецензент оказывается в уязвимом положении – если он фильм похвалит, то словно бы похвалит неприятных личностей, которые его и делали; а если скажет, что фильм плохой, то солжет. «В списках…» – не лучший фильм о ВОВ, он почти не говорит на человеческом языке (о людях, их чувствах, страхах, их прошлом). Психологии в нем мало, зато война показана масштабно. Он может вызвать эмоции у зрителей с хорошим воображением, другие же сочтут его ожившей реконструкцией из Музея Победы, разве что с профессиональными актерами. «В списках не значился» скорее неплохой, местами шершавый, местами искренний, но временами – какой-то искусственный. А что вы хотели? 80 лет прошло. Кто вообще может воспроизвести это событие? С таким же успехом можно верить, что в 2025 году получится снять естественно Бородинское сражение.

Снимал это малоизвестный Сергей Коротаев, который ранее работал над сериалами «Мосгаз», «Горький 53» и «В парке Чаир». Возможно, эти названия вам ничего не говорят, но рейтинги у этих сериалов по «КиноПоиску» хорошие (особенно по меркам российского кино). «В списках не значился» – его первый полнометражный фильм. Направленность режиссера (привык снимать по 6-10 серий) сказывается – чувствуешь, что ему тесно в формате двухчасового кино. Он отлично бы вписался в формат 4 серий, не пришлось бы вырезать целые куски оригинального текста, но 4 серии максимум на стриминг-платформу можно поставить (ну, и на «Первый канал»), а нужно же отбить огромный бюджет хоть немного. Поэтому «В списках…» поставили в кинотеатры на 1 мая – чтобы заработать на двух больших выходных.

Хорошо, что в фильм взяли малоизвестных актеров. Любая знаменитость испортила бы такой материал. Хотя постойте… Машков? Машков действительно портит фильм своим присутствием. Пока юные актеры честно отрабатывают гонорар и пытаются выдать свой максимум, Машков более занят самолюбованием. Он, забыв, что играет второстепенную роль, пытается задвинуть главных актеров. Даже на постере мы лицезреем его огромное лицо, а фигуры главных героев стоят тихо где-то в углу, что даже лиц их не видно. Некоторые СМИ, которые о фильме явно ничего не знают, вообще пишут, что Машков играет тут главную роль…
Но поговорим о сюжете. Пересказывать его бессмысленно, потому что он на 90% повторяет оригинал – одноименную повесть классика Бориса Васильева (он же автор «А зори здесь тихие», «Не стреляйте белых лебедей», «Завтра была война»). Многие жалуются, что из фильма 2025 года вырезали «мирное» вступление – как главный герой, лейтенант Николай Плужников, ездил в Москву к матери в июне 1941-го. В оригинале характер Плужникова раскрывается в первых главах. Он наконец-то становится офицером:
«…выдавались немыслимой красоты хромовые сапоги, хрустящие портупеи, негнущиеся кобуры, командирские сумки с гладкими лаковыми планшетками, шинели на пуговицах и гимнастерки из строгой диагонали. А потом все, весь выпуск, бросились к училищным портным, чтобы подогнать обмундирование и в рост и в талию, чтобы влиться в него, как в собственную кожу. И там толкались, возились и так хохотали, что под потолком начал раскачиваться казенный эмалированный абажур».

В оригинале Николай приезжает в Москву, поражается красотам метро, засматривается на девушек и думает, что влюбился (снова). Васильев в первых главах раскрывал юность, невинность и даже наивность своего Плужникова, тем самым сближая его с читателем.
«Здесь он знал каждую лестницу, каждый угол и каждый кирпич в каждом углу. Это был его дом, и если понятие "родина" ощущалось как нечто грандиозное, то дом был попросту самым родным местом на всей земле. Коля стоял возле дома, улыбался и думал, что там, во дворе, на солнечной стороне, наверняка сидит Матвеевна, вяжет бесконечный чулок и заговаривает со всеми, кто проходит мимо»
Все эти замечательные юношеские впечатления (Москва, мама, путешествия, влюбленности) благополучно не вошли в фильм с Машковым. У этого есть плохая и хорошая сторона. Плохая – Плужников в кино становится безликим солдатом, безусловно, достойным сочувствия, но без глубины Васильева. Мы почти ничего о нем не узнаем. Авторы пытались сблизить зрителя с героем – для этого вставляют закадровый голос, который читает отрывки из книги, чтобы показать внутренние переживания героя. Получается ли добиться эффекта? Сложно сказать. Но есть и хорошая сторона. У Коротаева отлично получается снимать военные сцены. Взрывы, атаки, смерти – вот это его. А жизнь, обычную жизнь он тут снимает без особого удовольствия. И вот если бы фильм начинался с Москвы, мамы, девушек – вышло бы совсем плохо. Тут и 21 июня показано так бесчувственно, что хочется, чтобы война началась поскорее – какая уж тут Москва?

Итак, Николай приезжает в Брест 21 июня, его пока не успели внести в списки. Он сразу знакомится со своими сослуживцами и идет с ними в местный ресторан. Честно говоря, Брест больше напоминает какой-то пригород западной столицы, чем прифронтовой город. Это можно списать на то, что Брест недавно оккупировали, ну а в составе Польши, возможно, он был столицей моды и хорошего вкуса. После ресторана Николай бежит на место службы. Уже вечер, и его провожает хромая девушка-еврейка Мирра. Нового лейтенанта встречают хорошо, усаживают ужинать – но внезапно в крепости выключается свет. Потом и водоснабжение прекращается. А через несколько часов Брестская крепость подвергается массированной атаке немецкой артиллерии.
С этого момента фильм становится действительно завораживающим – в первую очередь благодаря прекрасной операторской работе. Война тут показана без кровавых деталей, но внушает ужас. Это не героическое нечто – «В списках…» намного достовернее «Брестской крепости». Война показана как страшное и грязное событие. Героя оглушает, он теряется в пространстве. В кои-то веки разрушениями в российском кино не любуются. Персонажи, хоть ты с ними и не знаком, вызывают страх или сожаление – чувствуется, что на этой войне действительно убивают. Для блокбастера, снятого с подачи государства, это неожиданный подход – показывать поле боя без возвышенного героического флера, который нужно воспевать десятилетиями позже.

Безусловно, авторам приходится чем-то жертвовать во имя грязного эпика. Под раздачу опять идут человеческие переживания – они напрочь заглушаются необходимостью выживать в невозможных условиях. В этом экранизация уходит далеко от первоисточника. Если для Васильева главное – это сам человек в сложных обстоятельствах, то в новом фильме главное – это полнейший хаос, грязь, «мы все умрем» и «нам нужно выжить». Можно ли сказать, что фильм сильно упрощает оригинал? Отчасти. «В списках…» сконцентрирован на внешнем ужасе, хочет напугать им. Единственным «живым» становится любовная линия (в книге она тоже была), но и она (опять же, смотрим оригинал) быстро сгорает в агонии Брестской крепости.
Понятно, почему в ленте так много внешнего и мало – глубинного. «В списках…» снимался для тех, кому меньше 30. Давайте скажем честно – большинство тех, кто родился уже в России, не смотрели классические советские ленты (за исключением самых известных). Молодое поколение не воспринимает ВОВ по лентам «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие» и т.п. И, конечно, многие, кто моложе 30, не читали оригиналы Васильева. И авторы «В списках…» хотели привлечь именно эту аудиторию, далекую от советского восприятия ВОВ. В России уже давно пытаются переосмыслить военный киноязык. И вот «В списках не значился» – это скорее лучше, чем хуже. Можно бесконечно сетовать на то, что в РФ не хотят снимать новое «Восхождение», «Иваново детство» или «Летят журавли». Большинство 20-летних не смогут просмотреть вышеперечисленные фильмы, и в этом нет их вины. Но с ними же, по мнению властей РФ, тоже нужно говорить о ВОВ! Понятно, что дорогая картинка привлечет больше зрителей, чем тихое кино с психологическими изломами, но зато очень глубокое.

«В списках не значился» – продукт своего времени (и хорошо, что в нем войну хотя бы не романтизируют). Он показывает, куда движется наше кино о ВОВ – все дальше от советских традиций. Поэтому же зрители неизбежно поделятся на два лагеря. Кого-то фильм наверняка оскорбит – посмели где-то переиначить Васильева, нужно было снимать дословно. Кто-то возмутится, что нет глубины, как в советской классике. Кто-то, наоборот, сочтет это кино устаревшим (хотя со времен «Сталинграда» Бондарчука военный эпик в РФ стал лучше). Кино о войне – это давно отдельный жанр в РФ, и самое страшное, что никто не знает, как с ним работать. Как раньше не получится. А как? «В списках не значился» не пытается нащупать новые смыслы, он более склонен к консервативному подходу (2010-х). Разве что операторская работа и подход к военным сценам отличают фильм от других похожих. И это не плохо и не хорошо. Это нормально. А принимать это «нормально» или нет, должен уже решать каждый зритель.