Сегодня мы разговариваем с кинокритиком Екатериной Барабаш, успешно эвакуировавшейся (или бежавшей, вопрос выбора слова) из-под домашнего ареста в России по делу о «фейках об армии». Сейчас она находится в Париже, в студии Russie-Libertés, и мы поговорим и о том, как возникла вся эта приключенческо-детективная ситуация, и о жизни самой Екатерины.

Денис Галицын / SOTA
– Во-первых, позвольте вас поздравить с этой успешной эвакуацией.
– Спасибо большое.
– Во-вторых, я бы хотел начать с вашего поста от ноября 24 года, где вы в фейсбуке рассказывали о том, как, влетая в Россию, столкнулись с фирменным гостеприимством российских пограничников, которые вас задержали и придрались к тому, что вы родились в Украинской ССР. Не боялись ли вы после того, как вас задержали на границе и предъявляли претензии буквально к месту рождения, продолжать и жить в России, и возвращаться в нее из зарубежных командировок?
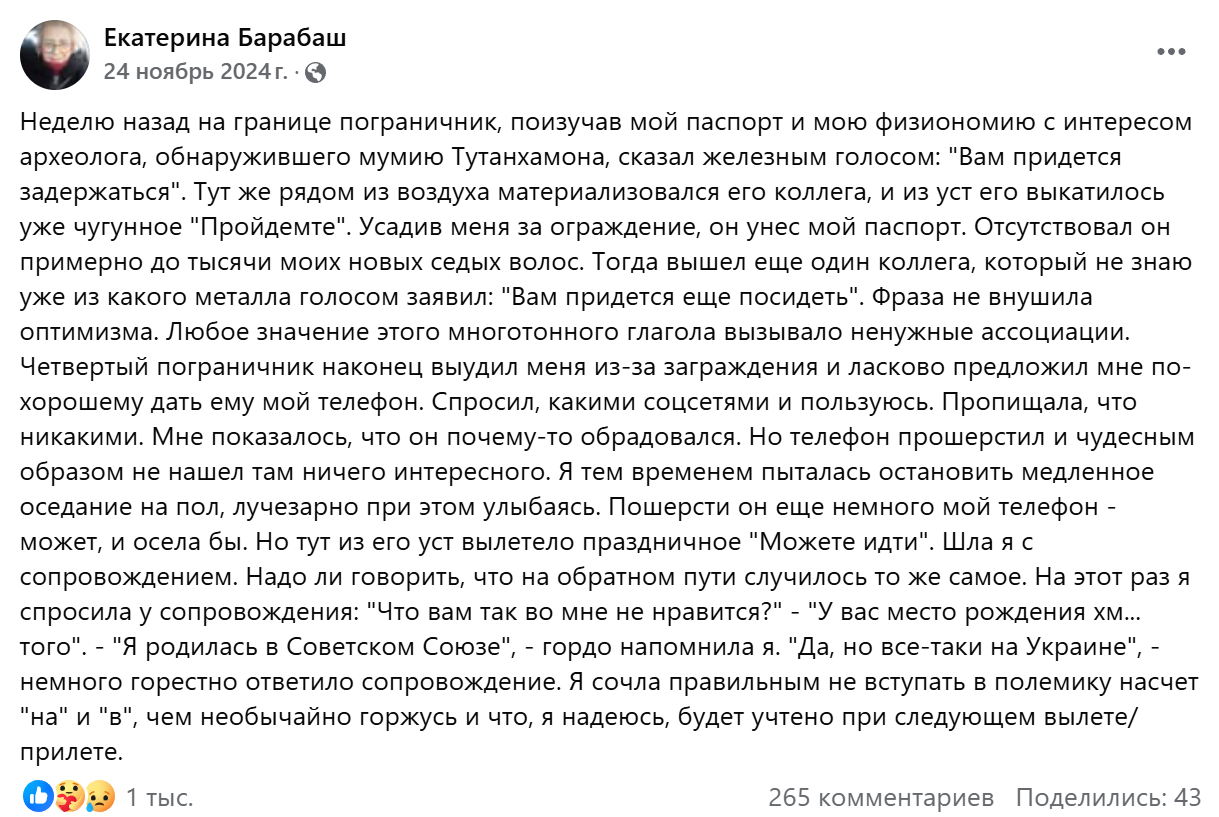
– Ну, знаете, это было уже не первый раз, когда меня продержали на паспортном контроле, где-то там за каким-то заграждением.
Первый раз это было в ноябре, я вылетала в Каир, меня продержали там минут сорок, наверное. Они посмотрели мой телефон, но не особо внимательно, я успела удалить переписку с Украиной. На обратном пути было то же самое, и тоже недолго.
Я спросила, в чем дело: «Место рождения у вас подкачало, Украина». Я говорю: вы всех проверяете? Да, мы проверяем всех, кто родился в Украине. Хорошо. В феврале я вылетала в Берлин, все было точно так же, на обратном пути, уже на въезде в Россию, меня продержали три часа.
Тут я немножко занервничала, хотя я была готова к такому повороту, но, когда пошел второй час, ходила, спрашивала, мне говорили, что какая-то система зависла или что-то они не могут получить. Я уже потом подумала, наверное, на тот момент было заведено уголовное дело: это было 22 февраля, а дело было заведено 18 февраля.
Я, наверное, как наивный человек им поверила, что дело в моем месте рождения. Ну, кстати, я до сих пор думаю, что, может быть, это действительно так. Нет, мне не было особо страшно, и у меня вообще не было мыслей уезжать, честно говоря, вообще этот вопрос для меня был закрыт, эта проблема не стояла, потому что у меня были очень пожилые родители, 93 и 95 лет. Но вот папы не стало как раз через несколько дней, в ноябре, после моего возвращения из Каира, однако осталась 96-летняя мама.
Мне все время говорили, что ты очень рискуешь, когда пишешь такие тексты, потому что, если уж ты не хочешь оставлять родителей, то будь потише. Не получилось быть потише, что поделаешь.
– Я смотрел ваш фейсбук, помимо того поста, и он до ареста был полон фотографиями бомбежек Украины, был полон пусть не прямыми обвинениями российской армии, но, позиция была абсолютно понятна. Такую позицию публично обычно высказывают те, кто уже находится в безопасности, то есть в эмиграции. Давали ли вам какие-нибудь намеки, или уголовное дело упало как гром среди ясного неба?
– Нет, меня ни о чем не предупреждали, со мной об этом говорили друзья, но, обладая, в общем, достаточно скверным характером, заносчивым, я не обращала на это внимания и по русскому обычаю надеялась на авось. Нет, силовики никаких намеков не делали, и, хотя я понимала, что такое может случиться, звонок в дверь, приход людей в масках был как гром среди ясного неба, вы правы.
– Как выглядел этот приход, утро обыска, показались ли вам силовики искренними, такими трубадурами режима, или всё-таки действовали по указке?
– Это было 10 часов утра, я сидела на кухне с мамой (я переехала к ней после смерти папы), и я случайно увидела чат дома, где кто-то написал: «А вы не знаете, что это за люди в масках рвутся, в 26-ю квартиру?» Тут я поняла, что пришли за мной. Не успела оглянуться – раздался звонок в дверь. Конечно, мне надо было лучше подготовиться, спрятать загранпаспорт, но я это не сделала. Посмотрела в глазок – там стоял молодой человек, который сказал, что это полиция, они проверяют мигрантов, а вот вы не знаете, кто живёт в соседней квартире. Он говорил ласково, но мне стало понятно, в чём дело, сопротивляться не было никакого смысла, они сломали бы дверь.
Я открыла, лестничная клетка была полна вот этими людьми в масках, были ещё двое понятых, какие-то страшно напуганные два молодых человека, они были куда более напуганы, чем я, а я, в общем, вела себя спокойно. Вперёд выступил человек с бумагой: «Сейчас я вам зачитаю, что вы подозреваетесь в совершении преступления по статье 207, час 2, фейки...» Я говорю: не надо, тут сквозняк из-за вас, заходите – и повернулась.
Он очень обиделся: «Почему вы поворачиваетесь к нам спиной?!» Дальше они вели себя очень корректно, обыск был очень скромный, дежурный такой, они даже не заходили в другие комнаты, посмотрели по верхам, увидели шкатулку с документами, забрали паспорта, смартфон. У меня был ещё один смартфон: я говорю, что использую его как электронную книгу, там нет сим-карты. – Ладно, оставим.
Увидели ещё другой компьютер. Я говорю: это мой старый. – Ладно, пусть остаётся. Отцовский компьютер они оставили, но очень рылись в отцовских вещах, а он известный в Украине человек, учёный, очень много наград у него, и государственные премии, орден украинский. – О, а как это, это украинский орден? – Если бы это был французский орден, вас бы это не смутило бы? – Нет, ну, всё-таки украинский!
То есть для них это что-то, конечно, из ряда вон.
Вскоре мы поехали в Следственный комитет, где очень долго пришлось ждать адвоката. Почему я не вспомнила сразу про Михаила Бирюкова, почему я не позвонила ему, это одному богу известно. Ждали назначенного адвоката часов пять, наверное, всё это время я сидела вот с этими сопровождающими, они со мной вели беседы, объясняли, что я раскачиваю систему.
Говорю: посмотрите на меня, я маленькая женщина, и тремя маленькими постами я раскачала вашу систему? Что же это за система такая? На что он мне с отвращением сказал: «Ну, вас много таких». Говорю: тут вы не совсем правы.
Так что вот эти вот ребята сопровождающие, полицейские, мне кажется, совершенно отравлены «патриотическими» настроениями, пропагандой, они говорят совершенно одно и то же про раскачку системы, про то, что кругом враги, что если бы не мы напали, то Украина напала, ну, бесполезно говорить, это религия.

Денис Галицын / SOTA
– Где вы были 8 лет...
– Да-да, совершенно правильно.
– А потом уже, когда дело дошло до выбора мера пресечения, насколько суд верил в это все?
– По-моему, суду было совершенно все равно, это все заняло 10 минут. У них уже было готово решение, потому что мне сразу сказали, что если вы будете себя хорошо вести, то у вас будет домашний арест. Вы должны пойти на сотрудничество со следствием, давать показания (какие показания, у меня подельников нет, вот все перед вами), так что, учитывая возраст вашей мамы, 96 лет, и ваш возраст… (Тут я, конечно, немножко по-женски так вздыбилась.) Ну, у вас будет домашний арест, скорее всего.
Я немножко волновалась, конечно, сидя в изоляторе. Судья оттарабанила все, что у нее было готово, адвокаты просили запрет определенных действий, чтобы я могла выходить на улицу, следствие само попросило о домашнем аресте – ну, и все.
Какими были его условия? В материале, который вышел в новом издании «Мост», говорилось о том, что к вам могли приходить друзья, не было социальной изоляции, которая обычно при домашнем аресте бывает.
– Абсолютно нет, единственное, мне нельзя было покидать пределы квартиры, даже на лестничную клетку выходить мусор выбросить нельзя было. Можно было выходить на балконы, там два балкона у родителей, и было прописано в постановлении суда, что запрещено общаться только со свидетелями, которые проходят по этому делу. Поэтому у меня был вал гостей, вал друзей, было очень весело, браслет не мешал, он такой легенький и большой, свободно болтался, но, единственное, мы побаивались, конечно, говорить открыто, потому что в квартире установили два таких специальных телефона городских, через которые шел сигнал от моего браслета, там могла быть прослушка. Поэтому, если что-то было очень важное, о чем они не должны были знать, мы или выходили на балкон, или шли в другие комнаты, закрыв двери, а так, в общем, это было хорошее время, особенно первые дни, когда была еще и эйфория от того, что я не в СИЗО, а на домашнем аресте.
– Переходя к деликатной теме, когда возникло понимание, что не только можно, но и нужно уезжать, были ли мысли о том, что можно остаться, потому что многие из политзаключенных, кому дают домашний арест в России, они остаются.
– Очень хотелось надеяться на чудо, что будет штраф или условное, но риск был все-таки велик, потому что там (в квалификации статьи – ред.) фигурировало слово «ненависть».
И думать об отъезде я начала буквально дня через три, когда уже как-то жизнь устаканилась под домашним арестом. Тем более, поначалу мы думали, что еще будет время, потому что мне назначили на два месяца домашний арест, и сказали, что через два месяца его продлят. То есть приговор в июне где-то, далеко. Но после консультаций с разными людьми я поняла, что хороший исход – это 50 на 50. Это был самый оптимистичный прогноз.
Но прогнозов тут нельзя делать, как вы понимаете. Остальные оценивали это 70 к 30. Но, согласитесь, это очень высокий риск.
Конечно, в первую очередь я думала о маме. Потому что оставлять маму в таком возрасте мне совсем не хотелось. Это было очень тяжелое решение. Все будет хорошо, говорили мои друзья, не волнуйся, все обойдется. Деньги на штраф мы соберем с полпинка. Но я об этом думала, думала – и все-таки в какой-то момент пришла мысль, что надо уезжать, так рисковать нельзя. Если я думаю о маме, то не следует рассматривать как вариант лучший исход. Это было бы чудом.
– Вы не ощущаете, что она сейчас остается в заложницах? Не было ли давления на нее после отъезда?
– Нет, никакого давления не было. Пришли полицейские в день моего отъезда. Они даже ее не допрашивали, ничего, просто спросили: «Где ваша дочь? – Откуда же мне знать». А что в заложниках... В каком-то смысле все оставшиеся в заложниках. Все родственники уехавших уголовников, вроде меня, они все в заложниках. Слушайте, вся страна в заложниках. Ну, о чем вы говорите? Нет, они не будут трогать 96-летнего человека.
По-моему, я для них отрезанный ломоть сейчас.
– Вы говорили, что дело завели 18 февраля. Почему именно сейчас, именно на вас?
– Я думаю, что просто дошла очередь. Логику искать бессмысленно. Может быть, начальник им сказал: у нас давно не было громких политических дел. – И тут они увидели подборку моих постов. Потому что взяли они меня в разработку в начале марта 22-го года.
– Тогда появились первые материалы? Да, и все три поста от начало марта 22-го года до середины октября 23-го года. Дальше, по 25-го февраля, они совершали какие-то странные телодвижения.
Например, я видела в этом уголовном деле список моих телефонных звонков за август 24-го года. Список номеров, входящих и исходящих.
Там же есть переписка каких-то ФСБшных начальников с МВДшными, со Следкомом и так далее, какая-то бессмысленная переписка бюрократическая.
Мне кажется, там какая-то лотерея, кто попадется им под руку сейчас. Может, они по алфавиту идут. Может быть, они как-то просто там, в колесе крутят, и кто выпал, тот и выпал.
– Тут я не могу не задать вопрос о конфликте, которым сопровождался ваш отъезд. Издание «Медиазона» и «Медуза», как рассказывал адвокат Дмитрий Захватов, не удалили по его просьбе информацию о том, что вы уже не находитесь под домашним арестом, а на пути к безопасной эмиграции. Вы не могли бы выразить свое отношение к этому? Правильно, неправильно они сделали, и кто в итоге был виноват? Потому что, например, в стриме сотрудники «Медиазоны», Сергей Смирнов и Елизавета Нестерова, сделали прямой намек на то, что эвакуация, которую проводил Дмитрий Захватов, была сделана некачественно.
– Эвакуация была сделана качественно. О ее качестве говорит хотя бы тот факт, что я сейчас сижу здесь, в студии в Париже, мы с вами разговариваем.
То, что это продолжалось так долго, больше двух недель, и то, что действительно там были очень опасные моменты, это не говорит о ее плохой подготовке. Понятно, это опасное мероприятие. Всегда случаются какие-то обстоятельства, которые мешают, какие-то случайности. Например, меня начали раньше искать, чем я предполагала.
Она была абсолютно качественной. Что касается этого скандала, этого конфликта между Дмитрием Захватовым и «Медиазоной» и частичной «Медузой» – понимаете, у меня просто шевелятся волосы, когда я все это читаю и смотрю, потому что ситуация не стоила выеденного яйца.
Дмитрий по вполне понятной причине попросил два издания, не удаливших информацию о моем побеге, ее удалить, несмотря на то что уже все СМИ о ней написали. Он пытался уменьшить шум, это понятно. И, конечно, шум от независимых СМИ, или так называемых независимых.
Это совершенно нормально. И в такой ситуации нормальный главный редактор не спрашивает, зачем тебе это, каковы там причины, каковы твои аргументы. Если тебя просят, говорят, что это нужно для успешного спасения человека, удали просто.
Здесь не было бы никакого скандала. Они этого не сделали. А потом «Медуза» приходит вчера ко мне и просит интервью.
Любые наезды на Дмитрия Захватова — это подло. Это просто подло. Я не знаю, какие там действительные причины, какие там подковерные интриги.
Я не знаю, мне это знать не надо. Но то, что Захватов спас меня и спас еще множество людей, — это факт. Сделайте хоть одну сотую долю того, что сделал, делает и еще сделает Дмитрий Захватов.
Понимаете, он в данном случае себя ведет просто как истинный гуманист, которых сейчас нет в природе. Их всегда мало. А сейчас их стало еще меньше.
Руководствуясь какими-то своими соображениями, не имеющими отношения ни к профессии, ни к ситуации, устраивать вот такую ломку Захватова, намекать, что это было некачественно. Чего там только не было, в чем они его там только ни обвиняют. Аргумент всплыл, что это все на деньги Невзлина, как тебе не стыдно, это кровавые деньги.
Это не выдерживает никакой критики. И я не хочу напрямую писать этим людям, но, если они меня услышат, то, ребята, отстаньте от него, наконец. Он делает огромное, благое, очень гуманное дело.
Не в пример, извините вам. Дикси, как говорится. Спасибо.
– От уголовных сюжетов – к культурологическим. Вы продолжали писать о культуре, о кинематографе уже в эпоху войны. Вы говорили в одном из предыдущих комментариев, что очень трудно понять, как сейчас об этом можно писать, нужно ли оно и в какой форме. Теперь, когда у вас есть опыт преследования, стало ли понятно, как?
– Нет, ощущение совершенно не изменилось. Я убеждена, что культуры как таковой в том понимании, в каком она замышлялась изначально, её в России нет, потому что культура и искусство – это территория свободы. И под давлением цензуры никакой свободы быть не может.
Максимум, что российские режиссёры, живущие в России, могут себе позволить, – это фига в кармане, намёки на сегодняшнюю ситуацию. Это всегда очень смешно, и чиновники это пропускают. Нельзя назвать полноценной культурой, когда произведение творится с оглядкой на цензуру. Это называется самоцензура, а самоцензура ещё страшнее, чем цензура в целом. Поэтому я в последнее время почти перестала писать о кино, о театре. Ну, только если что-то такое громкое.
– Сейчас, оказавшись в эмиграции, вы планируете освещать эмигрантскую культуру, культуру в релокации? Границ-то жёстких нет, все всё видят и по интернету, и как угодно. Кажется ли вам, что вот именно за границами России российская, русская культура, сохраняется и, может быть, развивается? Или всё равно война и самоцензура тоже действуют?
– Ой, трудно сказать. Во-первых, я ещё не ознакомилась с эмигрантской, релокационной культурой здесь. Пока трудно говорить, но я готова писать обо всём, что интересно. Но с тезисом о том, что культура перетекла за границу, я всё-таки не могу согласиться.
Есть разница между какими-то отдельными художниками, в широком смысле, которые творят за границей, и в целом культурой как явлением, социальной институцией. Мне кажется, она не может сохраниться за границей.
При этом я отдаю должное всем, кто работает здесь и что-то делает, и наверняка делает интересно. Вот сейчас Андрей Зрягинцев скоро закончит что-то, и Кирилл Серебренников, который будет сейчас в Каннском конкурсе.
Ну, много очень, да, их не счесть. Но это, мне кажется, не являет собой большое явление, чтобы его сравнивать, понимаете, с оставшейся культурой. Всё-таки это отдельные художники.
– Скоро очередная пятница, очередные «иноагенты». В «иноагентов» сейчас занесено всё то, на чём мы росли: 80-е, 90-е, нулевые, 10-е.
И кажется, что вся привычная нам культура, начиная с детективщика Акунина, кончая галеристом Гельманом, а в промежутке Борис Гребенщиков, вся она уже здесь, в эмиграции. Может ли за счёт вот этой эмиграции культура сохраниться и развиться? И нужна ли для этого тогда своя критика?

Денис Галицын / SOTA
– Я убеждена, что нет. Это не может ни сохраниться, ни тем более вернуться. Как говорится, умерла – так умерла. Я уверена в том, что культура, опять же, я не говорю про отдельных художников со своим мировоззрением, мировосприятием, творчеством. Я говорю о целом явлении, о части жизни. Не может быть культура оторвана от своей страны.
Люди могут отдельные, но говорить о чём-то целом – нет, безусловно.
– Вы сейчас оказались именно во Франции, куда устремилась первая волна русской эмиграции, где кладбище Сен-Женевьев-де-Буа иллюстрирует эту первую волну. Не кажется ли вам всё-таки, что в современной эмигрантской волне возникают какие-то центры, как было тогда, сто лет назад, в которых появляется что-то своё? Условно, Георгий Иванов в эмиграции сейчас есть или отсутствует?
– Ну, во-первых, я ещё не увидела этого. Ну, это же из России тоже видно, как ни крути.
Нет, это безусловно, особенно сейчас, когда мир открыт, когда есть интернет, когда есть возможности коммуникации, чего не было у той эмиграции первой волны. Конечно, все они внесут вклад, потому что сейчас, с высоты пройденных лет, нам, в общем, всё равно, творил ли Георгий Иванов там, творил ли в России, писал ли Бунин свои произведения во Франции или в России. Это уже становится неважно, это всё часть культуры. Но для этого нужно большое время. И всё-таки мне кажется, что должны быть какие-то связи, какие-то корни у культуры в той стране, откуда она пошла.
– Тогда глупый вопрос: ваши творческие планы, как вы сейчас видите своё профессиональное будущее? Планируете ли переехать к сыну, в Киев, оставаться в Европе, взаимодействовать с релоцировавшейся культурой или посвятить себя культуре украинской?
– Что касается Украины, я мечтаю, чтобы у меня появилась возможность туда ездить. Будущее моё туманно, безусловно. Я пока не очень себя представляю здесь и свою жизнь здесь, свою нишу, но я, безусловно, собираюсь сотрудничать с французской русскоязычной прессой.
Ну, во-первых, RFI, вот это международное радио, Radio France International, с которым я до войны сотрудничала много лет, с началом войны они сами прекратили, но теперь готовы подписать со мной контракт, хотя пока у меня нет права на работу.
Затем новое издание «Мост», я надеюсь сотрудничать с ними. Что я буду писать, как я буду освещать, я пока не знаю, честно сказать.
Я, действительно, хочу больше внимания начать уделять украинской культуре и вопросам Украины, потому что по этой части даже у самых, в общем, проукраински настроенных моих друзей просто нет знания истории, нет никакого представления о культуре, мне хочется быть вовлечённой в это. Но, в любом случае, о будущем говорить пока рано.
– Чисто технический вопрос: вы планируете сейчас подаваться на убежище?
– Пока на убежище, да, у меня завтра встреча с адвокатом будет, всё это мы будем обговаривать.
– Сейчас из Парижа, что вы могли бы сказать тем, кто остаётся в России, не обязательно это деятели культуры, просто антивоенно настроенные россияне, учитывая, что на них уже могут лежать собранные папочки?
– Я могу только заплакать, вот правда. Я могу только сказать: будьте целы и невредимы. Я не могу сказать «молчите и не нарывайтесь, как я». Я не могу такие вещи советовать. Я не могу им советовать «боритесь, идите вперёд, будьте как я».
Это совсем уже будет подло. Я ничего не могу сказать. Я только могу сказать, что пусть это всё скорее кончится. Как можно скорее. Кто не может уехать, приспосабливайтесь к жизни там. Кто может и хочет – не бойтесь ничего.
Не бойтесь. Правда, я не могу давать никаких советов. А пожелания – оставайтесь целыми и невредимыми. Постарайтесь не сесть. Это всё, что я могу сказать.
– И последний вопрос, тоже связанный с отъездом. У вас наверняка были какие-то знакомые, друзья в России, которые с началом войны эту войну поддержали.
– Нет, у меня не было таких друзей.
– В любом случае, может быть, вы видели реакцию на ваш арест и ваш отъезд от каких-то людей, реакция которых вас могла удивить. Может быть, внезапно открылось, наоборот, что тот, кто поддерживал войну, тайно пожелал удачи. Или наоборот. Не было ли чего-то такого?
– Нет, ничего такого не было. Было только, знаете, огромное счастье. Я считаю, что это светлая сторона вот этого опыта. Вообще любой опыт, он хорош. Как мои друзья мне помогали и поддерживали и меня, и маму. И даже родственники довольно близкие, которые считают, что они вне политики, конечно, на меня косо смотрели, но тем не менее приезжали, поддерживали меня, маму, говорили, что всё будет хорошо. И сейчас, когда я уехала, у мамы каждый день кто-то есть. Вот именно сейчас я поняла, насколько у меня прекрасные друзья.
Это как раз было то, что очень меня, скажем так, счастливило в той ситуации. Я в них не сомневалась. Но когда ты видишь, как это всё происходит на деле… Ведь я же оставила очень много всяких бытовых проблем, которые упали на моих друзей в основном.
Они этим занимаются, они куда-то ходят, опять же приезжают к маме, помогают и так далее. А друзей, которые были бы по другую сторону баррикады, у меня нет давно. На то они и друзья.



