«А чем вы занимаетесь?» — спросил я. «Как и вся наука, — сказал горбоносый. — Счастьем человеческим»
(А. и Б. Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу»)
В названии постановки, видимо, заложена игра слов, в которой «отчуждение» отсылает не столько к карантину вокруг опасного объекта, сколько к сфере человеческих отношений (Правда, больше ассоциаций в первый момент возникает с одноименным мистическим сериалом про Чернобыль). А вот чего ожидать от премьеры, состоявшейся 19 ноября, было непонятно.

С одной стороны, братья Стругацкие, «Пикник на обочине», культовый «Сталкер» Тарковского и вся порожденная этим сюжетом субкультура…
С другой стороны, спектакль поставила главная режиссер Москонцерта Мария Тихонова на сцене кинозала «Эльдар». Если заглянуть в афишу Москонцерта, вы обнаружите там диковатый набор из интерактивного «Йети-шоу», мюзикла «Умная собачка Соня» и концертов бардовской песни, репертуар «Эльдара» разбавляет все это музыкально-поэтическими вечерами. Ничто здесь не предвещало появление фантастической притчи по мотивам «Пикника на обочине». Да еще и музыкальной. А в афише помимо главных и второстепенных персонажей значились «Агенты, ученые, горожане, аномалии и эмоции», и спектакль с танцующими аномалиями сулил много новых впечатлений. Неудивительно, что корреспондент «Соты», чьим последним музыкальным спектаклем (не считая разнообразной Z-патриотической драматургии) был прошлогодний #неревизор по пьесе Хинштейна, шел на премьеру с некоторой опаской.
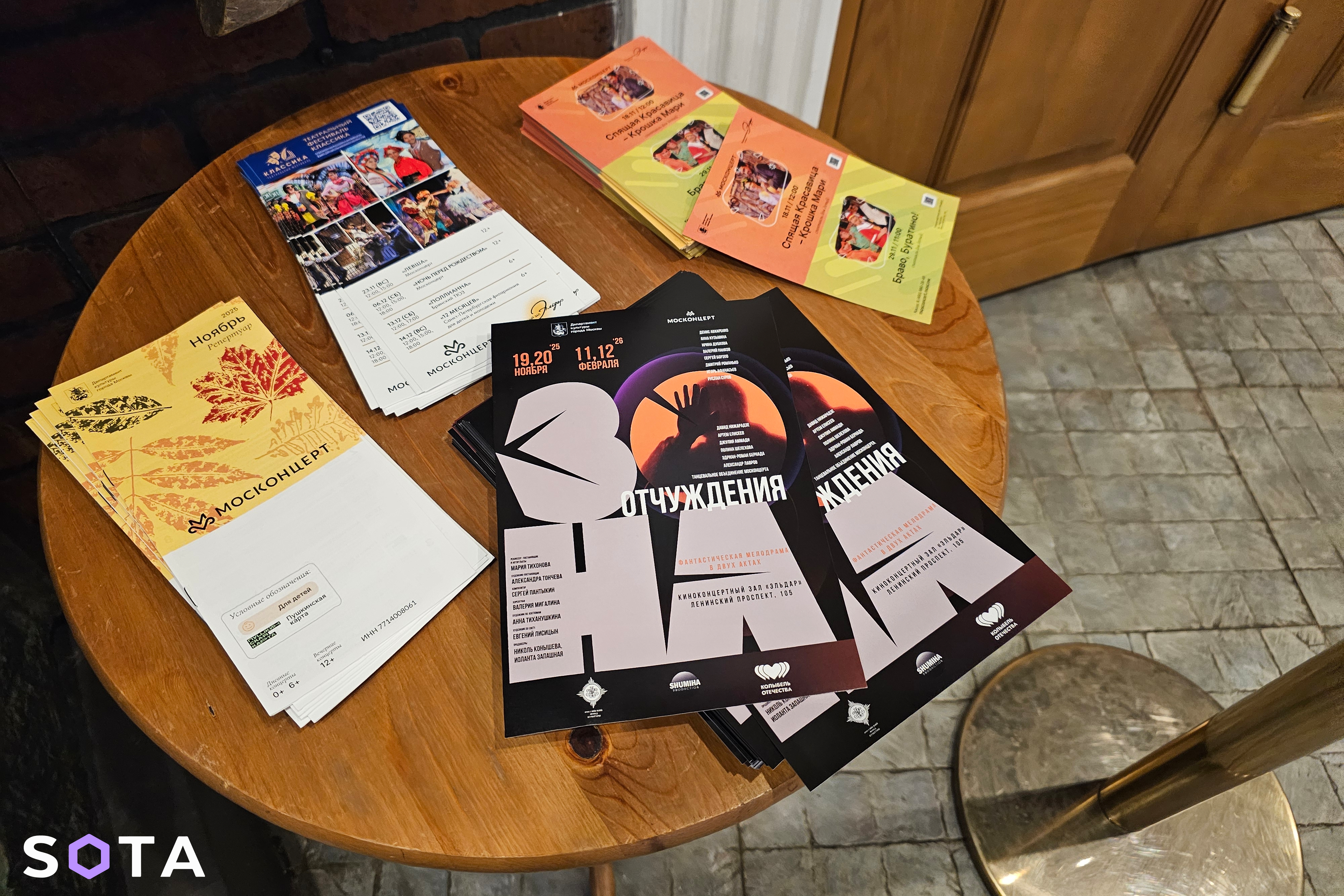
Оказалось, что страхи были напрасны – пусть на сцене «Эльдара» и не поставили шедевр масштаба мюзиклов Уэббера или пьес Марка Захарова, но, во всяком случае, к середине первого действия стало ясно, что в постановке ничто не раздражает.
Да, здесь есть музыкальные номера – в основном из репертуара группы «Алисы» (кстати, довольно странно, что использованные композиции не указаны в афише спектакля), но в постановку они, в сочетании с оригинальной музыкой Сергея Пантыкина, вписались очень удачно. Особенно запоминается сцена возвращения умершей невесты героя под песню «Ко мне». Танцевальное объединение Москонцерта в качестве тех самых горожан и аномалий, хоть и не дотягивает до уровня бродвейских шоу, но и актеров студенческого капустника не напоминает, а танцевальные номера тоже встроены в общий замысел и работают на создание нужного настроения.
Декорации простые, но, по крайней мере, не выглядят как груда строительного мусора и металлоконструкций (нередкое решение в современной сценографии): оформление сцены запоминается, а висящий над ней не то зловещей луной, не то гонгом, не то готовой разбиться гигантской елочной игрушкой Золотой Шар удачно используется в ключевые моменты.

Чего не скажешь о развешенных по спектаклю нестреляющих ружьях из «вселенной Стругацких».
В этой постановке есть город Хармонт, загадочная Зона, оставленная таинственными пришельцами, и Институт внеземных культур (в нем и происходит существенная часть действия), но сюжет «Пикника на обочине» служит отправной точкой, от которой оттолкнулась режиссер и автор пьесы, додумывая последующие события: испытания в Хармонте «вакцины счастья». Тут и проблема: постановка рассчитана на подготовленного зрителя, который более-менее ориентируется в сюжете повести Стругацких и которому не надо объяснять, что такое Зона, что было не так с дочерью Редрика Шухарта (Денис Авхаренко) Мартышкой (Полина Шелехова), и отчего она в первой сцене является в обезьяньей маске, чем промышлял герой, что за штука Золотой Шар, исполняющий желания. А тут еще возникают отсылки к другим произведениям Стругацких: например, среди персонажей по-прежнему имеется допрашивающий Редрика Лемхен (Валерий Панков), но ассистирует ему Аслан Джамаев (Давид Нижарадзе), про которого нам сообщают, что он когда-то служил в элитном подразделении «Бойцовых котов», да что-то случилось и поломало его военную карьеру…

Но это ружье, видимо, демонстративно повешено на сцену для декора и не выстрелит никогда: мы не узнаем, что случилось с героем, когда он был «Бойцовым котом», не поймем, за каким лешим два года назад его понесло в зону вместе с невестой и подругой (поход, во время которого невеста Аслана собственно и погибает). А когда невеста является не то с того света, не то из зоны, не то из глубин памяти героя после испытания вакцины счастья, лишь помнящие текст сообразят сразу, какой из трех вариантов объяснения ее появления ближе к истине.
«Поставлено прикольно, но ни хрена не понятно, кто есть кто и про что вообще», – делятся впечатлениями не столь подготовленные юные зрительницы в антракте.
Действительно, даже с базовой подготовкой в первом действии можно слегка потеряться. Почему из Зоны вдруг вернулся Шухарт, пропавший там много лет назад и не заметивший эти годы, словно побывал в королевстве эльфов? Что за странную вакцину счастья, изготовленную из «компонента Зоны», собираются испытывать в Хармонте? Кто такая Маша, выросшая в «Институте аномалий», а теперь работающая над вакциной?

И что все-таки попросил Редрик у Золотого Шара, когда довел туда и отдал в жертву последней ловушке-мясорубке своего спутника Артура: здоровье для дочери или счастье для всех? Ведь сам сталкер путается в показаниях, а сбылось, как выясняется, и то и другое.
Второе действие оказывается скорее мелодрамой, чем фантастикой, и события в нем начинают проясняться – некоторые нитки, про которые уже показалось, что они так и будут висеть, покачиваясь, подобно порождениям Зоны, вдруг связываются друг с другом. Да, после испытаний вакцины жители города счастливы, только поводы у всех разные. Вот Маша счастлива увидеть отца, которого считала пропавшим, – вы уже догадались, кто это, верно? Но сбывшиеся желания не всегда приносят то, чего ждешь, и люди «выходят из-под контроля», что, впрочем, не беспокоит зловещего Лемхена, очень похожего на Воланда. Для него происходящее – инструмент «естественного отбора»: ведь на тех, у кого к счастью простые и понятные требования, вакцина не действует разрушительно в отличие от тех, кому простого человеческого счастья (работа, ремонт, здоровье близких) мало и нужно что-то невозможное.

Или проблема не в вакцине – это исполнение слишком опасных желаний разрушает людей? И вот в финале Аслан и Маша отправляются в Зону, собираясь, как герои жуткой новеллы Джекобса «Обезьянья лапка», пожелать, чтобы ничего этого не было – ни сбычи мечт, ни вакцины, ни самой Зоны. Вопрос только в том, кто из них убедит второго идти к шару, а сам останется в «мясорубке», и финал, как и в оригинальной повести, открыт…
К актерской игре вопросов не возникает: хотя играть приходится в чем-то среднем между мелодрамой, триллером и фантасмагорией, никто из персонажей не переигрывает и не фальшивит. Героям веришь, они искренни и потому затягивают тебя за собой в нереальный мир пьесы.
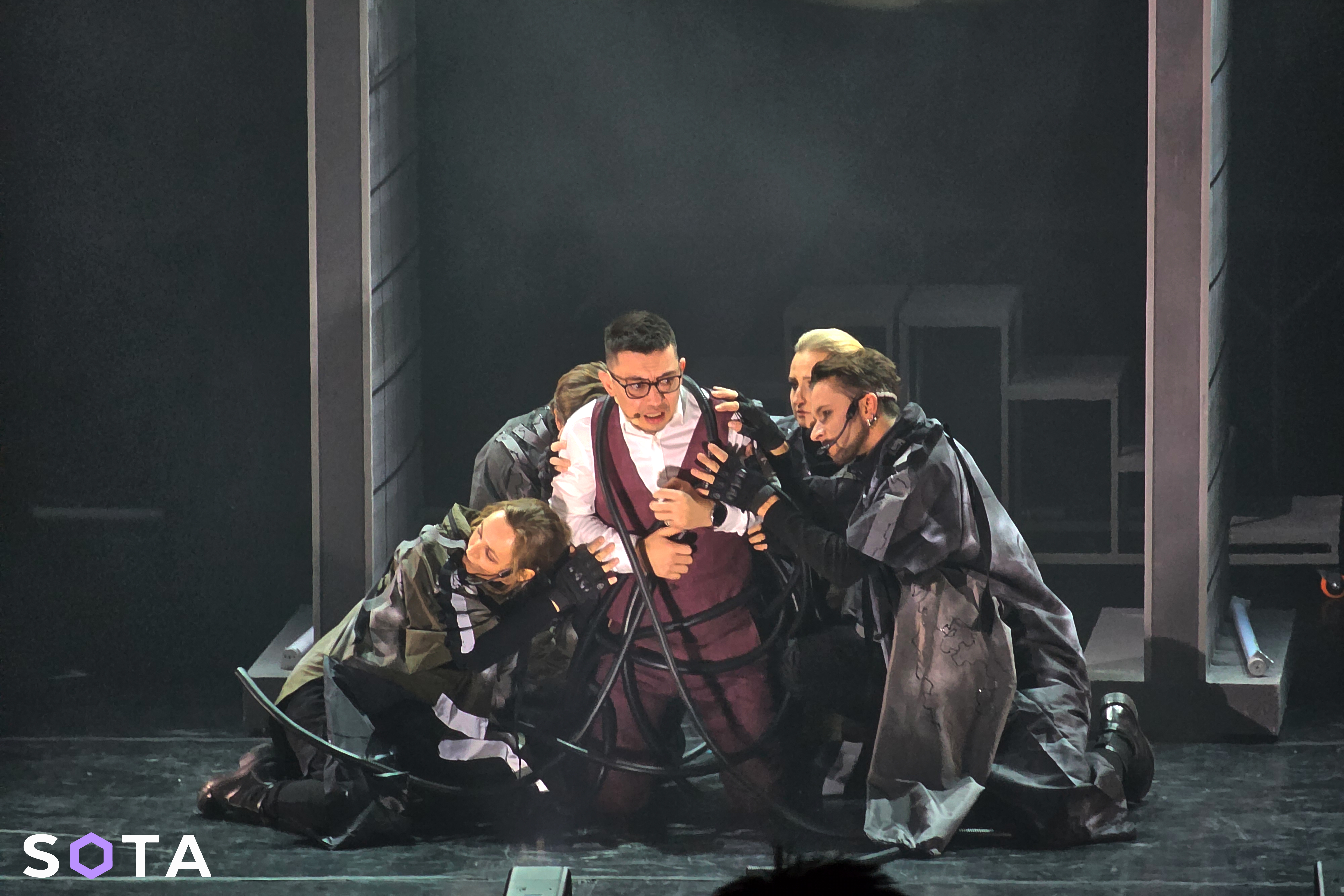
Больше вопросов к сюжету. Мария Тихонова обещала «ответить на главный вопрос: что происходит с человечеством во время погони за прогрессом?» и порассуждать об опасностях потери человечности и любви в поисках научно обоснованного счастья. Но вопросов про прогресс в спектакле не особенно много, и главная тема как-то теряется, так что пьеса кажется соединением нескольких историй. Здесь и сказка (не воспринимать же этот «научный эксперимент» всерьез) про исполнение желаний, которые всегда исполняются не так, как надо. И история о невозможности смириться с утратой любимой и явлении ее «двойника». И сюжет о потере отца, который возвращается, но тебя не узнает… И все эти сюжеты могли бы быть поданы сильнее и интереснее, но, по сути, лишь намечены отдельными штрихами. Зато звучит много слов про то, что такое счастье и как возможно осчастливить всех, но в качестве главного драматического вопроса эти слова кажутся несколько… старомодными. Именно таким – чуть старомодным – можно назвать и весь спектакль: то, что казалось очень своевременным в мире Стругацких, может утратить актуальность на исходе первой четверти XXI века, когда никто уже не пытается людей осчастливить, а напротив – появляются все новые поводы для страданий. И какой-то сильной ноты, связывающей постановку с проблемами современности, не хватает.
Что ж, спектакль можно рассматривать как дань памяти наследию Стругацких (не случайно же в последней сцене появляется Аркадий Натанович, дописывающий повесть): ретро-постановка с чуть старомодно поданными «вечными вопросами».

Но все-таки, выходя из «Эльдара», продолжаешь думать: а в самом деле, в чем была ошибка Редрика – в том, что попросил счастье для себя или для всех, или в том, что ради своего желания принес в жертву другого? Смогли бы герои «отыграть назад» и спасти мир от расползающегося за пределы «зоны отчуждения» псевдосчастья? И кто все-таки прав: те, чьи желания просты, или те, кто хочет чего-то маловыполнимого?
А если спектакль так тебя зацепил, что ты уходишь с вопросами в голове, и эти вопросы не про то, зачем ты потратил на данное зрелище вечер, – наверное, это означает, что спектакль получился?



